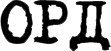Почему Владимир Беренштам навсегда вошёл в историю: правда о первом «рабочем адвокате» России
От тифа и холеры — к суду и защите
Имя Владимира Владимировича Беренштама знакомо немногим, но его биография — это подлинный срез русской истории конца XIX — начала XX века. Начавший свой путь санитаром в глухих уголках Саратовской губернии, он прошёл через эпидемии, ссылки, громкие судебные дела и политические процессы. Сын учёного, внук философа и сам по себе выдающийся адвокат и публицист, он оставил после себя наследие, о котором в России почти забыли. И совершенно напрасно.
В эпицентре холеры и тифа Владимир оказался в самом начале своей карьеры. Он добровольно отправился в очаги эпидемий, где каждый день мог стать последним. Уже тогда проявился его нравственный стержень — не убежать от страха, а встать на передовую. Эта готовность быть с народом, даже когда элита пряталась за железными воротами, стала определяющей чертой всей его жизни.
Ссылка в Полтаве: школа выживания и зрелости
Политическая активность не могла остаться незамеченной. В начале XX века Беренштам оказался в ссылке в Полтаве. Но даже здесь он не сломался. В это время формируется его мировоззрение: не как отвлечённого интеллектуала, а как практика, видевшего страдание простых людей и несправедливость, творимую властью.
Полтава стала его «университетом под открытым небом» — именно здесь он начал работать над своими первыми очерками, в том числе — политическими. Уже тогда становится ясно: перед нами не просто адвокат, а человек, готовый вступить в бой за правду, какой бы горькой она ни была.
Политические процессы: голос совести в зале суда
Возвращение в Петербург совпало с активизацией революционного движения. Беренштам стал одним из немногих юристов, кто не боялся защищать политических обвиняемых — даже таких, как И.П. Каляев, участник громкого дела об убийстве великого князя Сергея Александровича. Его называли «рабочим адвокатом» не случайно — он знал, как дышат улицы, он понимал язык толпы, и он не боялся вступаться за тех, кто считался врагом государства.
Владимир Владимирович был не просто защитником в суде — он превращал процесс в трибуну, где звучала правда. Его речи публиковались, его слушали, ему верили. Когда большинство адвокатов отказывались брать «неудобные» дела, Беренштам шёл туда, где требовалась отвага.
Борец за право и летописец эпохи
Но Беренштам был не только юристом. Его перу принадлежат десятки публицистических работ, очерков и воспоминаний. Особое место среди них занимает его взгляд на личность Льва Троцкого. Он видел в нём фигуру историческую, далеко не однозначную, но по-своему необходимую для переломного времени. В 1905 году Беренштам даже сделал серию фотографий Троцкого, позже опубликованных в сборнике «На заре революции».
Книги Беренштама — это не просто тексты, а хроника борьбы, в которой он сам был участником. Среди них: «В огне защиты», «В боях политических защит», «Из пережитого» — настоящие документы эпохи. Он не приукрашивал, не играл в героизм, но его строки до сих пор пульсируют живой болью и искренностью.
Эмиграция и забвение: как забывают героев
После революции Владимир Беренштам некоторое время работал юрисконсультом в советском торгпредстве в Праге, но надолго в новой системе не задержался. В СССР для таких, как он, не было места. Его имя постепенно исчезало из газет, книг, памяти.
Он умер в 1931 году. Похоронен был на Казачьем кладбище Александро-Невской лавры. На его надгробии из красного гранита выгравировали: «Первый рабочий адвокат в России и политический защитник». Но уже в 1970-х могила была уничтожена. Позже на её месте устроили новое захоронение, поставив другой памятник — как будто пытаясь стереть саму память о человеке, который всю жизнь боролся за то, чтобы её сохранять.
Родословная, которой гордятся столетиями
Беренштам происходил из удивительной семьи. Его дед — Орест Новицкий, православный философ, преподавал в Киевском университете, был экспертом по логике и истории философии. Его отец — Вильям Людвигович Беренштам, активный украинофил, гласный Киевской думы, археолог, педагог, просветитель, организатор воскресных школ.
Брат Михаил — присяжный поверенный в Петербурге, публиковал юридические комментарии. Сестра — Мария Кистяковская, соратница Н.К. Крупской, писательница, педагог-реформатор. Эта семья словно собрала в себе все смыслы века: философию, право, просвещение, общественное служение. На этом фоне Владимир выглядел не просто достойно — он стал символом преемственности духа.
Зачем помнить сегодня
История Владимира Беренштама — это не просто эпизод из прошлого. Это пример того, как один человек может сохранить честь, когда система рушится. Как можно быть юристом и не предать закон. Как возможно защищать тех, от кого все отвернулись, и не пожалеть об этом.
Сегодня, когда общественное доверие к судебной системе снова вызывает вопросы, имя Беренштама звучит особенно остро. Его биография — вызов и напоминание: даже в самые мрачные времена есть место для совести. Нужно лишь решиться.