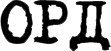Лазарь Кармен: Одесский голос угнетённых, который не искал лёгких путей
Ранние годы и семья — корни одесского писателя
Лазарь Осипович Кармен родился в конце XIX века — по одним данным, 14 (26) декабря 1876 года, по другим — в апреле того же года. Его семья была типичной для маленького провинциального городка Теофиполь: отец Иось-Бер Михелевич Коренман был мещанином и служащим торговой фирмы, мать — Матильда. Дед и бабушка жили там же, в Теофиполе, и родословная подсказывает о крепких еврейских корнях. В таких условиях Лазарь впервые познакомился с миром, который затем стал главным героем его произведений — бытом, заботами и надеждами мелких чиновников, торговцев, рабочих и угнетённых слоёв общества.
Первые литературные шаги — одесская "Ракета" и стихи из "На суше и на море"
Уже в подростковом возрасте Кармен начал экспериментировать с литературой. В 1892—1893 годах он самостоятельно издавал юмористические журналы "Эхо Одессы" и "Ракета", наполненные собственными стихами и сатирическими заметками. Именно в этом начале прослеживается та ирония и лёгкая горькая насмешка, которая станет отличительной чертой его стиля.
В 1894 году он дебютировал в одесском литературном журнале "На суше и на море" с циклом стихов и заметок под названием "Мои наблюдения", публикуясь под настоящей фамилией — Корнман. Вскоре вышли первые сборники — "Шестая палата" (1895) и "В родном гнезде" (1900), которые закрепили за молодым автором статус наблюдателя жизни низов одесского общества.
"Дикари" — Одесса глазами писателя
В 1901 году выходит его самый знаменитый сборник — "Дикари", включающий 17 рассказов о жизни одесских обывателей, их мечтах и борьбе с нищетой. Эта книга быстро приобрела популярность не только в Одессе, но и за её пределами — была переведена на немецкий язык, получила признание как мощный социальный протест.
Его прозу сравнивали с творчеством Максима Горького, и нередко называли "одесским Горьким" — ведь Кармен был настоящим защитником "униженных и оскорбленных", изображая не только их беды, но и надежды на лучшее.
Палестина и сионизм — поиск другого пути
В 1904 году трагически заканчивается судьба молодого ученика ремесленного училища, который, оставив прощальные стихи Кармену, покончил с собой. Это событие глубоко потрясло писателя и побудило его отправиться в Палестину, чтобы увидеть другой мир — колонии еврейских поселенцев, где юноши, полные энергии и отчаяния, пытались построить новое будущее.
Однако, несмотря на сочувствие к идеям сионизма и палестинофильства, Кармен сам оставался реалистом. Он отвергал особые "еврейские пути" и верил только в общечеловеческие ценности и социалистические преобразования. Его взгляды не совпадали с Жаботинским, но он с пониманием относился к сложной судьбе своих современников.
Жизнь в Петербурге и возвращение в Одессу
В 1906 году семья переехала в Санкт-Петербург, где Лазарь жил в условиях постоянной нестабильности и не имел официального права на жительство. Его творчество продолжало развиваться: рассказы публиковались в столичных журналах, а сам писатель оставался в тени официальных литературных кругов.
В 1918 году, уже тяжело больной опухолью, он вернулся в Одессу. Там продолжал работать, писал рассказы и сценарии для кино, став одним из первых, кто попытался перенести одесскую реальность на экраны.
Последние годы и память
Весной 1920 года Лазарь Кармен ушёл из жизни, не дожив до 44 лет. Его похоронили на еврейском кладбище, но во время сноса кладбища в 1970-х годах памятник писателю перенесли на Второе Христианское кладбище Одессы — словно символ того, что его творчество вышло за рамки этнических и религиозных границ.
Наследие и семья
Супруга Дина Львовна (урождённая Лейпунер) была переводчицей и издательницей, вела работу по популяризации еврейской литературы. Их сын Роман Кармен стал известным кинодокументалистом, продолжая традиции семьи.
Творчество Лазаря Кармена — это не просто рассказы о людях Одессы начала XX века. Это мощный социальный манифест, наполненный живым языком и глубоким пониманием человеческой души. Его работы остаются актуальными и по сей день, вдохновляя тех, кто верит в силу слова и перемен.